Русский балет: проблемы и тенденции

В БОЛЬШОМ ТЕАТРЕ в начале этого сезона состоялась премьера нового балета: знаменитый французский хореограф-модернист Анжелен Прельжокаж поставил «А дальше – тысячелетие покоя. Creation 2010».
Приглашение Прельжокажа в Большой театр, совместное участие русских и французских танцовщиков в этом спектакле было последним вкладом, внесенным в репертуар театра предыдущим руководителем – Алексеем Ратманским. Вероятно, ему казалась заманчивой сама идея привлечения знаменитого хореографа к работе в Большом театре. Премьера состоялась в середине сентября.
Балет на музыку диджея Лорена Гарнье (с включением музыки Бетховена и Бенжамина Рипперта) изначально назывался «Апокалипсис», после которого должно наступить тысячелетие покоя. Слово «Апокалипсис» из названия постановки исчезло – как говорят злые языки в Москве, чтобы не вызывать ненужных ассоциаций с состоянием русского балета. Концепция балета, по-моему, от этого не изменилась. Прельжокаж в ряде интервью говорил, что этот балет – не иллюстрация к Апокалипсису, а его фантазии, навеянные чтением текстов Иоанна Богослова.
То, что я увидела, скорее напоминало фантазии человека с нездоровой психикой. Балет идет без перерыва более полутора часов и состоит из множества не связанных между собою сцен, танцевальных (танец модерн) и ритмико-пластических. Перечислю лишь некоторые из них.
Танцовщики сидят на сцене и переставляют из стороны в сторону стулья.
Группа артистов танцует в пластиковых мешках.
По сцене бегает человек, который изначально должен был выходить обнаженным. Хореограф вынужден был уступить настоянию директора, и на танцовщика надели трусы. Актер бегает, прикрывая руками «причинное место» (говорят, что на одном спектакле чей-то ребенок крикнул на весь зал: «Мама, дядя писать хочет!». Зал покатился со смеху).
Выступает группа артистов, каждый держит в руках по книге, а третью книгу – во рту.
Садомазохистские сюжеты. Двое танцовщиков-мужчин, обняв друг друга, топчутся по авансцене. Один кусает другого, тот кричит в полный голос. В конце концов они целуются и уходят. Затем все участники спектакля в цветастых костюмах (даже головы целиком замотаны разноцветными шарфами) изображают картинки группового секса. В разнополом любовном дуэте молодой человек ударяет девушкой, которую держит, приподняв над полом, о металлические щиты, выстроенные вдоль сцены. Бум! Бум! Звук – жуткий.
В последней картине вдоль задника поставлены цистерны с водой. Участники спектакля полощут в них флаги разных стран мира (за исключением русского!) и устилают этими флагами сцену. Выходят танцовщик и танцовщица, каждый выносит по живому черному ягненку. Ягнят ставят на пол, суют им соски, водят по сцене, затем вновь берут на руки. Занавес...
Наверное, такой спектакль имеет право быть поставленным в авангардистском театре Прельжокажа. Но почему он должен идти на сцене Большого театра? Зачем было занимать в нем высокопрофессиональных танцовщиков русской школы? Чтобы они жевали книги на сцене? Прельжокаж сам сказал в интервью, напечатанном в буклете, что его постоянно гложут сомнения: «Пропасти передо мной разверзаются, и у меня возникает ощущение, что всех русских я вовлек в глупую историю». Не знаю, считать ли это высказывание кокетством или самокритикой.
Конечно, хореограф может выбирать любую тему для своего балета, вопрос в том, в какую форму он эту тему отольет. Балет Прельжокажа никаким образом не служит дальнейшему развитию русского балетного искусства, а напротив, на мой взгляд, разрушает его.
В МАРИИНСКОМ ТЕАТРЕ несколько лет подряд включали в репертуар балеты, идущие на сценах западных театров, пытались восстановить «оригиналы» классических балетов – только бы вытеснить из репертуара все созданное в советский период. А в прошлом сезоне вдруг вспомнили о классике XX века и возобновили подряд два балета Леонида Якобсона – «Шурале» и «Спартак».
Это новый поворот репертуарной политики. Леонид Якобсон считается одним из великих хореографов России прошлого века. Его балеты давно не идут на сцене Мариинского театра, наследие практически исчезает. И вдруг два возобновления подряд. Я видела «Спартак» (музыка Арама Хачатуряна) – последнюю премьеру театра. Скептики предсказывали, что восстановленный «Спартак» развенчает миф о гениальности Якобсона. Однако развенчания, по-моему, не произошло. И само предсказание изначально неверно. Искусство театра, особенно балета, принадлежит времени. Могут устареть хореография и манера исполнения, но это не умаляет гениальности хореографов и исполнителей, остаются легенды об их мастерстве, их искусство влияет на дальнейшее развитие балета. Впрочем, это отдельная тема, а сейчас вернемся к «Спартаку».
Премьера балета состоялась в 1956 году. Якобсону, не слишком обласканному властями, при поддержке художественного руководителя балетной труппы Ф. В. Лопухова удалось поставить трехактный балет на сцене Кировского театра. Общее впечатление от балета, возобновленного 54 года спустя: смотреть интересно. Это нарочито театрализованный балет, в котором хореографические сцены, вставные танцы и дуэты скреплены гениальной выдумкой Якобсона – «барельефами» из танцовщиков. Неподвижные или движущиеся на фоне закрытого занавеса, они связывают отдельные «картины римской жизни» в одну историю и останавливают внимание зрителя на наиболее важных сюжетных моментах.
Главным недостатком премьерного спектакля было отсутствие динамики в развитии балета. Это заметно и в сегодняшнем возобновлении. Я не хочу умалять заслуги проделавшего огромную работу по восстановлению такого сложного балета Вячеслава Хомякова (в прошлом танцовщика театра), но «Спартак» Якобсона принадлежит к тем балетам прошлого, которые нуждаются в более решительной редактуре: первое и второе действия разворачиваются слишком вяло и медленно; сокращение и объединение этих актов пошло бы на пользу всему спектаклю. Зато третье действие переполнено сюжетными коллизиями, драматичными сценами и великолепными танцами. Я с удовольствием отметила, что зал был полон, и публика смотрела на сцену со все возрастающим интересом. И, что наиболее важно, молодые артисты танцевали спектакль с энтузиазмом, как современное произведение, как премьеру сегодняшнего дня. Очень обнадеживающий симптом.
Существенным недостатком новой редакции является следующее нововведение: после каждого «барельефа» из танцовщиков (рынок рабов, бои гладиаторов, победа римских войск над восставшими рабами и другие) на опустившийся экран проецируются слайды, которые должны повторять только что увиденный «барельеф». Черно-белые изображения на каком-то грязном фоне с пририсованными уродливыми лицами разрушают атмосферу спектакля, его эстетическое, эмоциональное, смысловое воздействие на зрителя. Я спросила, зачем это сделано, и услышала, что рабочие не успевают сменить декорации. А почему раньше успевали? Тот же театр, та же сцена... Возобновление старого спектакля должно происходить с соблюдением эстетики спектакля, а не вопреки ему.
Мне кажется, что восстановление костюмов Валентины Ходасевич сделано неточно (почему-то на Фригии странное белое платье в цветочек), и то ли краски слишком интенсивны, то ли свет поставлен неправильно, но цветовая гамма на сцене кажется чересчур яркой и режет глаз. Впрочем, несмотря на отдельные недостатки, «Спартак» Якобсона не потерял примет настоящего искусства. Пусть несколько старомодного, но подлинного. Что ж, будем любоваться старомодным, если оно талантливо.
Я не сравнивала современных танцовщиков с первыми исполнителями. Я оценивала их только в том плане, до какой степени они справляются с ролью.
Данила Корсунцев в роли Спартака показался мне недостаточно героическим. Такое впечатление, что его Спартак возглавил восстание рабов только волею случая. Софья Гумерова в роли Фригии поначалу выглядела не слишком пластичной (в хореографии Якобсона в данном балете много от танца модерн), но в конце была хороша, особенно в последней сцене, где ее героиня оплакивает погибшего Спартака: здесь Фригия показалась персонажем греческих трагедий! Вообще в исполнении Гумеровой Фригия – личность настолько сильная, что именно она бы и могла поднять восстание рабов!
Эгину, римскую куртизанку, танцевала Екатерина Кондаурова, своеобразная и талантливая. Конечно, она очень эффектна, прекрасно танцует, но... мне показалось, что Кондаурова слишком молода для этой роли. Эгина по замыслу хореографа не так проста, холодна и бездушна, как ее изображает Кондаурова. Неужели ее героиня настолько безразлична к молодому рабу Гармодию, которого соблазняет и губит? Словом, в этой роли есть двойное дно, некая тайна, которую нельзя «изобразить», а надо почувствовать, и которая пока балериной не продумана.
Гармодия танцует Александр Сергеев, он мне кажется интересным артистом. Не знаю, насколько Сергеев на своем месте в ролях романтического репертуара, но в современном он явно выделяется своеобразием. Гармодий Сергеева настолько юн, что кажется, не осознал еще всего ужаса своего рабского положения. Покидая вслед за Эгиной военный лагерь, он не то чтобы предает товарищей, он просто настолько увлечен этой дразнящей его женщиной, что все остальное перестает для него существовать. Якобсоновская пластика дается артисту без напряжения. К слову, в новом балете Юрия Смекалова «Предчувствие весны» в роли Смерти он просто поразил меня своей пластичностью и выразительностью.
Среди исполнителей танцев – шедевров Якобсона («афинский шут», выступления гладиаторов на арене цирка, менады, этруски, гадитанские девы) я бы выделила прежде всего высокую красавицу Александру Иосифиди – солистку в танце гадитанских дев: даже в этой вакханалии она сохраняет мистическую таинственность, с которой движется по сцене в начале танца.
Но, несмотря на все недостатки оригинала, новой редакции и исполнения, «Спартак» Якобсона, мне кажется, возобновлен на родной сцене вовремя, так как сейчас балетный театр пребывает в полной растерянности, а новых идей нет и не предвидятся.
У МИХАЙЛОВСКОГО ТЕАТРА в Санкт-Петербурге своя история. Балетная труппа была создана в начале 30-х годов, направление репертуара было выбрано комедийное, и в дальнейшем в афише театра преобладали современные балеты. Сейчас его возглавляет генеральный директор Владимир Кехман, который и определяет политику театра. Кехман – фигура необычная, вызывающая в городе разнотолки, но я отношусь к нему и его деятельности с большим интересом ( помимо всего прочего, и с благодарностью за капитальный ремонт и возрождение самого здания театра). Я не понимаю, зачем он пригласил на должность руководителя балета Михаила Мессерера, ничем до сих пор себя особенно не зарекомендовавшего, но отдаю должное желанию Кехмана возродить театр и вывести его на достойное место в балетной жизни Санкт-Петербурга.
И все же, какими бы устремлениями в современность ни жил балет Михайловского театра, он должен иметь в репертуаре классические балеты – хотя бы из финансовых соображений. Мессерер поставил свою редакцию «Лебединого озера», основываясь на московской редакции классики А.Горским – А.Мессерером. Затем театр занялся восстановлением классики XX века и выбрал для этого балет Вахтанга Чабукиани «Лауренсия» (по повести Лопе де Вега «Овечий источник») на музыку Александра Крейна.
Само по себе обращение к известному балету могло стать находкой для театра: это произведение давно не идет на сцене. Но Мессерер создал нечто «по балету Чабукиани», а не редакцию балета, как написано в программке, и главное – из балета исчезла героика. Получилось некое подобие «Дон Кихота» с небольшими побочными коллизиями в виде изнасилования двух девушек. А в целом – довольно веселый спектакль.
Ирина Перрен, прима театра, – хорошая, технически сильная танцовщица. Но и она не вполне понимает характер своей героини, во всяком случае в первой половине балета. Ее общение с Фрондосо – Антоном Плоомом очень напоминает общение Китри и Базиля, то есть игру двух веселых влюбленных. А балет, между прочим, совсем не об этом. Роль Фрондосо Чабукиани делал для себя, то есть она рассчитана на первоклассного танцовщика, которого в труппе нет. Проблема мужчин-танцовщиков в театре очень остра, значит, надо было пригласить «гостя» со стороны. Актерская удача – Эльвира Хабибулина в роли Хасинты. Приятно поразил меня женский кордебалет: высокие красавицы подобраны одна к одной, как и полагается в хорошем балетном театре. Танцуют слаженно, и смотреть на них одно удовольствие. Хорошо (что сегодня тоже редкость в русском балетном театре) выступили характерные солисты.
В целом же могу сказать: восстанавливать старые балеты нужно, но следует быть очень внимательным в выборе концепции своей редакции. «Спартака», при всех изменениях, восстанавливали с большим вниманием и пониманием оригинала, чем Мессерер – «Лауренсию».
Теперь Кехман решился на экстравагантный поступок: с 1 января во главе балетной труппы станет приглашенный им современный испанский хореограф Начо Дуато. Это будет следующий после Петипа западный руководитель русской труппой.
Я считаю идею вполне правомерной и интересной, поскольку театр этот и был создан как современный и экспериментальный. А что из данной затеи получится, покажет время. Пока нельзя предугадать, как будут складываться отношения испанца с русской труппой, будет ли Дуато, как Петипа, стараться проникнуться русской культурой, традициями русского балета. Ведь это, с моей точки зрения, главный залог успешного сотрудничества. К марту труппа будет готовить один из старых балетов Дуато.
Кехман неутомим в стремлении оживить жизнь своего театра. В марте намечено провести фестиваль современного танца молодых русских и западных хореографов. Словом, «алло, мы ищем таланты». Будем надеяться – найдут.
В Мариинском театре немного встревожились, тем более что у них тоже в марте-апреле пройдет балетный фестиваль. Валерий Гергиев обещал, что с труппой будут приглашены сотрудничать несколько современных западных хореографов, в том числе Джири Килиан. Килиан – один из самых талантливых современных европейских хореографов, но не скрывает, что не любит русский балет. В таком случае зачем же его приглашать? Я понимаю желание руководителей театра расширить репертуар за счет современных спектаклей, но не каждый балет самого знаменитого современного хореографа (даже гениального!) может идти на сцене любого театра. Бездумное перенесение балетов, созданных для трупп с другими традициями и другим творческим потенциалом, иногда приносит не пользу, а вред.
Итак, каковы перспективы русского балетного театра сегодня? Куда приведет сосуществование двух тенденций (а иногда и конфронтация между ними) – стремление заполнить репертуар ультрасовременными западными балетами и стремление сохранить русскую балетную культуру прошлого? Наверное, чтобы обозначилась «золотая середина», необходимо появление русских современных хореографов, которые развивали бы русское балетное искусство на новом этапе. Таковых сейчас нет в столичных театрах, но, возможно, надо искать их на периферии.
Искусство в целом переживает смутное время, и есть опасность, что к тому времени, когда начнется его подъем, слишком многое в русском балетном театре будет безвозвратно утеряно.



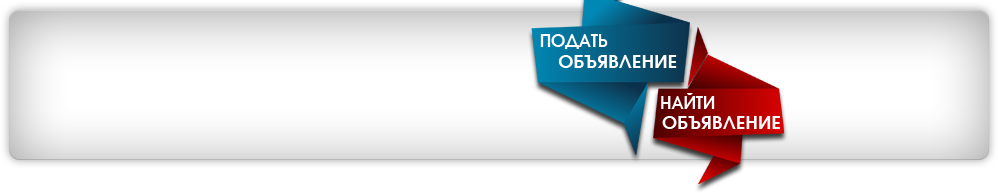





















Комментарии (Всего: 1)